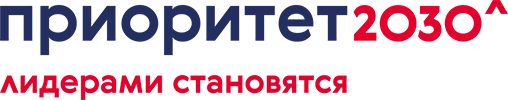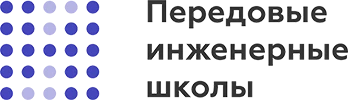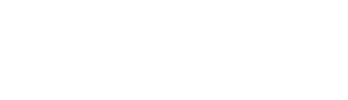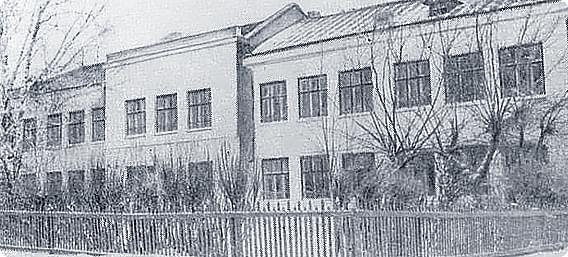В 1943 году в Уфимский авиационный институт пришла на работу Аверьянова Прасковья Константиновна, выпускница 1-го Ленинградского государственного педагогического института иностранных языков. Более 30 лет своей трудовой биографии (1943-1974 г.г.) она отдала нашему вузу: преподаватель, старший преподаватель кафедры иностранных языков, в 1962–1969 гг. являлась заведующей кафедрой УАИ.
Студенческие годы Прасковьи Аверьяновой пришлись на предвоенные годы и военное лихолетье. Самое суровое время – блокадную зиму 1941-42 г.г. она провела в Ленинграде будучи студенткой факультета английской филологии известного Ленинградского пединститута иностранных языков.
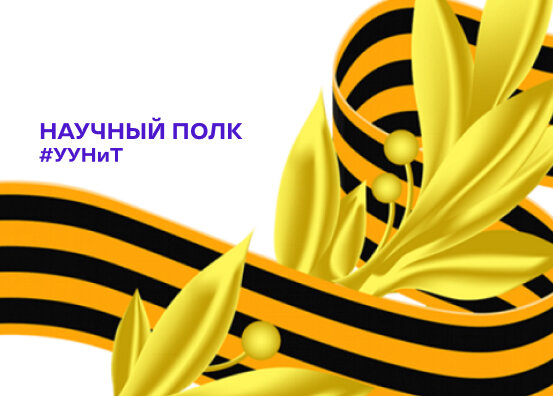
Прасковья Константиновна поделилась моментами о годах учебы в осажденном Ленинграде, стойкости и мужестве его жителей на страницах книги «Великая Отечественная война: исторический очерк и воспоминания ее участников – преподавателей и сотрудников УАИ):
- Я была студенткой 3-го курса, когда в мирную жизнь ворвалось страшное слово «война». С ее началом в нашей студенческой жизни все изменилось. Занятия в институте продолжались, но нерегулярно. Всех нас, студентов и преподавателей, посылали на оборонительные работы – мы копали рвы, траншеи, окопы в Ленинграде и на подступах к нему.
Помню, особенно тяжелой была работа под Ленинградом, в Усть-Луге. Жили на одной чечевице. Работали на болоте, под дождем. Однажды кто-то робко попросил нашего командира дать нам немного времени, чтобы обсушиться. Мы стояли кто в чем: на мне и моей подруге были накинуты одеяла, а сырую одежду повесили сушиться. Раздалось еще несколько голосов, но тут командир скомандовал: «Стоять смирно! Равняйсь! Сбор через пять минут! Разойдись!»
Через пять минут мы шагали к месту работы. Стоя в воде, работали до самого вечера, над нами летали немецкие самолеты. И тут мы поняли, что враг близко, что гибнут наши люди, а нам, видите ли, надо обсушиться! Поняли, что работать в сырой одежде под дождем – это не самое страшное. А на следующее утро нас всех срочно увезли в Ленинград: немецкая армия подходила к городу. Мы работали в булочных, помогали продавцам, чтобы не создавалось очереди, так как уже действовала карточная система. К лекциям в институте добавились еще дежурства на крышах. Признаюсь, было страшно.
Но самое страшное было впереди – зима 1941–1942 гг., когда морозы доходили до 40 градусов. Начинался голод. В это время нормы хлеба были самыми низкими: рабочие получали по 250 граммов, все остальные – по 125. Казалось, жизнь в городе замерла. Но город жил, боролся. Работали заводы, фабрики, госпитали. В институтах шли занятия.
Наш институт находился в Смольном. Во время воздушных тревог спускались в бомбоубежище, а в перерывах бегали в буфет, где стоял титан с горячей водой. Ее пили и таким образом согревались. Но, увы, вскоре не стало и титана. Когда остановился транспорт, в институт стали ходить пешком. А путь от Каменного острова, где я жила, до Смольного занимал два часа туда и столько же обратно. Но это при условии, что тебя не заставала воздушная тревога. Иногда выйдешь из института в два-три часа, а домой приходишь за полночь.
В эту блокадную зиму не все наши закончили обучение: некоторые успели эвакуироваться еще до блокады, многие ушли на фронт, другие погибли от голода и бомбежек. Погибали и наши преподаватели. Один из них – Сергей Михайлович Волков – высококвалифицированный педагог с блестящим знанием английского языка, окончивший Оксфордский университет, читал нам курс английской и американской литературы. Я бережно храню его лекции и при необходимости к ним обращаюсь.
И вот, наконец сдан последний государственный экзамен (кстати, несмотря на все наши испытания, требования на экзаменах были очень жесткие). 31 декабря 1941 г. нам выдали дипломы. Но не было ни радости, ни приподнятого счастливого настроения, которое испытывает выпускник вуза, вступая в новую, самостоятельную жизнь. Были горе, смерть, был истерзанный, но не сдавшийся врагу город. Впереди – полная неизвестность, несмотря на то, что всем нам выдали направления на работу. Мне надлежало ехать в республику Коми, но о выезде и речи быть не могло: город в кольце врагов. В марте 1942 г. мы с отцом покинули Ленинград. Сначала – по «дороге жизни» Ладожского озера, а затем 25 дней в пути.
Уфа стала моим вторым домом. С УАИ связана вся моя трудовая деятельность, здесь я обрела друзей, встретила судьбу.
22 августа 1990 г. по поручению исполкома Ленсовета П.К.Аверьяновой был вручен знак и удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда».
#0летВеликойПобеде#научныйполкУУНиТ
Станьте соавтором УУНиТ! Присылайте свои новости в наш чат-бот в Telegram. Не забудьте прикрепить фото- или видео- материалы.